
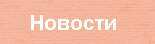 
 
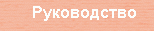


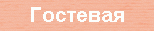
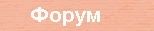
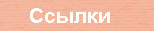 
|
|
Центральный
Академический Театр
Российской Армии
Неофициальный
сайт
|
Искусство перевоплощения
Интервью к 50-летию Александра Леонтьева

Не часто встретишь человека, который родился в столь удаленном уголке нашей страны, как Вы. Как так получилось?
Мои родители поженились, а через неделю уехали в поселок Беринговский, куда направили моего отца-военного. Этот поселок находится на побережье Берингова моря, в принципе, там уже до Аляски рукой подать. Там я родился и прожил где-то два с половиной года. Потом мы вернулись в Крым, где жили несколько лет. Затем уехали на Камчатку на три года, там у меня родилась сестра. Опять вернулись в Крым, а после окончания школы я приехал в Москву. У меня интересная история с датой рождения. Мы жили в воинской части на 50 семей, это был объект войск КГБ, которые занимались радиопилингацией, прослушиванием Тихоокеанского региона, отец был специалистом высокой квалификации, поэтому он и был туда направлен. Находились мы от поселка Беринговский, который для нас был городом, в двадцати километрах. Никакие автобусы не ходят, только вездеходы, и то, если что-то надо, раз в месяц группа людей поедет купить какие-то промтовары. Отец отвез туда маму рожать, поскольку только там был роддом. Родился я 3 ноября в 0:15. Потом приехал отец, забрал маму в воинскую часть, а поехать регистрировать меня смог только через два месяца, сначала он по службе был занят, потом вездехода не было. Через два месяца он немножко забыл дату моего рождения. Он думает: «Так, Саша родился 3 ноября», - а потом его спрашивают: «Когда у Вас рождение?». Он снова думает: «Третьего-то третьего, но пятнадцать минут нового дня», - после чего говорит: «Четвертое ноября». Так и написали. Когда отец приехал домой, мама открыла свидетельство и спросила его: «Почему написали четвертое?». Отец и отвечает: «Так он у нас родился в 0:15» - «Ты же меня 2 ноября отвозил, а родился он у нас третьего». Тогда родители решили, что, когда я буду получать паспорт, то мне и исправят дату рождения, сделав запрос в поселок Беринговский. Ничего подобного не произошло. Когда я получал паспорт, то дату рождения мне списывали из свидетельства о рождении. Потом я менял зеленый советский на бардовый паспорт, затем бардовый на российский. И сколько я не просил, мне говорили: «Нет, мы списываем старые данные». Так на всю жизнь по документам я родился четвертого ноября, но все мои знакомые знают, что на самом деле день рождения у меня третьего ноября. Если говорить дальше, то в Симферополе я закончил школу, там же занимался в драмкружке при Дворце пионеров, затем приехал в Москву и поступил в ГИТИС. Это была мастерская Андрея Алексеевича Попова. Вначале, на первом курсе, Андрею Алексеевичу дали педагогов, всю жизнь преподававших в ГИТИСе, но никогда не работавших в театре. Мы с ними занимались год, но общего языка не нашли. Тогда Андрей Алексеевич пригласил своих бывших учеников, которые года за четыре до этого у него закончили ГИТИС. То есть до нас он выпустил только один курс. Он пригласил троих друзей-сокурсников, которые жили в одной комнате общежития – Бориса Морозова, Иосифа Райхельгауза и Анатолия Васильева. В то время Морозов работал в Театре Армии, Райхельгауз – в «Современнике», а Васильев – во МХАТе. И они пришла к нам на курс, правда, Васильев у нас появлялся временами. Еще был Б.Эрин, он когда-то, в 60-е годы работал в Театре Армии, потом был главным режиссером в минском театре, супругой его была актриса Театра Армии Вера Капустина. Такой командой мы дальше и работали. Вот эти два друга, Морозов и Райхельгауз, которых потом Попов пригласил в театр им. Станиславского, куда вошел целиком и наш курс, они мало того, что жили, включая Васильева, в одной комнате общежития, все трое ныне главные режиссеры, так еще и театры, которыми они руководят, находятся в таком географическом треугольнике, что между ними никого нет, то есть они соседи; все они до сих пор женаты одним браком, у всех по двое детей, у всех дочки. Есть в этом какая-то судьба. Правда, сейчас они уже не в таких отношениях, как тогда, тогда это были друзья не разлей вода. Курс у нас был очень интересный, сильный, и, надо сказать, нам все завидовали. Нас всегда хвалили на кафедрах, после экзаменов.
Какие дипломные спектакли у вас были?
Морозов поставил пьесу «Время невиновных», это радиопьеса Зигфрида Ленца. В 60-70-е годы было увлечение театром «вытянутой руки», это, что еще делал Гратовский, когда было пятьдесят человек зрителей в зале. В «Современнике» был такой спектакль по «Преступлению и наказанию». И вот Борис Афанасьевич решил сделать такой спектакль в репзале театра им. Станиславского, который был похож на 5-й репзал Театра Армии. Пьеса о том, как в диктаторской стране ловят одного из террористов, который решил убить диктатора, его бросают в камеру, и к нему бросают девять человек совершенно ни в чем невиновных, разных профессий, разных социальных групп, которым говорят: «Пока он (террорист) не раскается и публично не изменит своей позиции, мы вас не выпустим, поить и кормить не будем». А люди еще такие, у которых, либо дела, либо грудной ребенок умирает или налоговая проверка в банке - обыкновенные люди, которых просто на улице поймали. Проходит четыре дня. Это напоминает фильм Золотана Фабри «Пятая печать», там в оккупированной Венгрии тоже ловят людей и говорят: «Вы должны убить». История о том, как люди идут на грех. Морозов очень любит такие крайние ситуации. Постепенно люди начинают переходить к тому, что они у террориста требуют, чтобы он раскаялся, и, в конце концов, они его убивают. Вот такая пьеса, которая шла два часа без антракта в замкнутом помещении. Спектакль посмотрели почти все главные режиссеры московских театров, может быть, человека два не видели. Причем, однажды пришел Анатолий Эфрос, а у нас артист заболел, и мы отменили спектакль, было очень неудобно, что пришел Эфрос, а мы отменили спектакль, так он пришел второй раз, и все же посмотрел. Очень сильные рецензии были на спектакль, в общем, спектакль был очень удачный.
Эфрос поделился своими впечатлениями от спектакля?
Нет, поскольку мы играли спектакль на четвертом курсе, то режиссеров мы приглашали познакомиться с курсом. Но, в театре им. Станиславского есть лестница на пятом этаже, и один наш артист пошел провожать Эфроса, и, говорят, что Эфрос качался. Там вообще тяжело смотреть было, когда люди доходят до истерики, до шока, когда они не пьют четыре дня и умирают, как они начинают изменять своим гражданским позициям, переступают черту и убивают – тяжело смотреть, как это происходит в течение двух часов на расстоянии вытянутой руки. Еще один дипломный спектакль поставил Райхельгауз – «Три сестры» А.Чехова, это было в учебном театре ГИТИСа. Эрин делал дипломный спектакль «Власть тьмы» Л.Толстого, я там играл Никиту. Спектакль Эрин не успел сделать, он тяжело заболел. Еще в театре им. Станиславского был спектакль «Робин Гуд», в котором артистов заменили полностью нашими студентами, и он тоже шел у нас как дипломный. Также мы были заняты в спектакле Б.Морозова «Брысь, костлявая, брысь!» - это был первый спектакль, который он поставил, когда пришел в театр им. Станиславского. Андрей Попов стал художественным руководителем театра им. Станиславского и взял туда этих же своих учеников. Первым там свой спектакль выпустил А.Васильев «Первый вариант Вассы Железновы», в котором была занята наша сокурсница Марина Хазова. Потом Морозов выпустил спектакль, там были заняты три наших студента, я был в эпизоде занят, а главную роль играл Саид Багов. Позднее в этот спектакль Морозов в массовые сцены ввел весь курс. Затем Васильев выпустил «Взрослую дочь молодого человека». В этой пьесе был занят Саид Багов. Ну а потом все это дело рухнуло. В театре начались грязные дела, и Попов, по натуре человек неконфликтный, не любивший заниматься всякими дрязгами, просто взял и ушел.
А сам Андрей Алексеевич ставил спектакли в театре им. Станиславского?
Нет. Он же в Театре Армии режиссировал спектакли, но существенных достижений у него не было. И главным режиссером ЦАТСА он стал, потому что его попросили, но он стал им не для того, чтобы ставить, а чтобы быть художественным руководителем. Он давал дорогу режиссерам, в частности, он привел молодого Хейфеца. Также и в театре им. Станиславского, куда он решил взять своих молодых и талантливых студентов (Райхельгаузу было 28 лет, Морозову где-то 32 года, Васильеву – 35 лет), чтобы они работали, а он им помогал, если понадобится. В то время такие театры, как театр им. Станиславского, театр им. Гоголя, театр им. Пушкина были болотом, там не было ни одного режиссера. В театре им. Станиславского была одна женщина, которая числилась ассистентом режиссера и все. Театр очень консервативно воспринял приход молодых режиссеров и молодых актеров. Возникли группы людей, которые решили этому делу помешать, поскольку, видимо, они себя не видели в этой реформации театра. Начались разные грязные дела на уровне Министерства культуры, куда вызывали Андрея Алексеевича. В общем, он ушел. Ушел Попов, ушел и Васильев, чуть позже ушли Морозов и Райхельгауз. С нашего курса в театре им. Станиславского осталось четыре человека, остальные распределились по театрам.
Изначально весь ваш курс влился в труппу театра им. Станиславского?
Нас еще во время учебы всех ввели в спектакль «Робин Гуд» и еще отдельно некоторых артистов ввели в другие спектакли. Когда Борис Афанасьевич шел на выпуск своего спектакля, то он придумал там массовые сцены, в которые забросил весь курс. Так что в театре мы были заняты достаточно плотно, мало того, мы даже свои дипломы репетировать ходили в репзалы театра, потому что наши режиссеры там же и репетировали, они окончили репетицию и затем репетировали с нами, им было так удобнее. Мы жили в ощущении того, что все здесь и останемся после окончания ГИТИСа, потому что Андрей Алексеевич был ко всем очень расположен.
Ваше самое яркое студенческое впечатление?
Самое яркое впечатление – это, конечно, общение с Поповым, потому что, мало того, что это великий русский Актер, это и великий Человек! Все люди, которые были с ним знакомы, всегда о нем потрясающе отзывались. Я заметил такую вещь, люди, которые его не знали, а видели только в театре, если я, допустим, говорил, что учился у Попова и называл фильмы, в которых он снимался, то мне говорили: «А, да, хороший дядька». Вот откуда они знали, что он хороший дядька?
А у него лицо такое.
Вот! Он был очень простой в общении человек. К нему было какое-то двойственное отношение. Когда он приходил, было ощущение, что пришел Царь Всея Руси, а с другой стороны он сразу так к себе располагал, что было ощущение, что это папа. Просто папа. Мы у него и дома бывали, я уже, когда закончил институт, много раз бывал у него дома, мы общались с ним на кухне.
Вы ходили смотреть спектакли, в которых играл Попов?
Да, конечно. Я «Смерть Иоанна Грозного» посмотрел шесть раз, последний билет, купленный за полгода до его смерти, у меня до сих пор хранится. Он умер 10 июня, а 14 июня он должен был играть «Смерть Иоанна Грозного». Попов, за год до того, как взять наш курс, перешел во МХАТ, не ужившись в Театре Армии с политуправлением, как он мне говорил: «Они постоянно все диктуют. Я уже замучился», - ему не давали ставить многие пьесы, которые он хотел, поэтому он ушел. Во МХАТе он активно начал работать, у него там была потрясающая роль в «Иванове». Помню, у нас в ГИТИСе все говорили, при всем уважении к Смоктуновскому, который тогда считался величайшим артистом, что Попову роль удалась больше. Еще у него были главные роли в спектаклях «Эльдорадо», «Жизнь Галилея». И вот что мне еще запомнилось, как раз в связи с Галилеем. Мы заканчивали первый курс, когда он репетировал эту роль. Репетировал он месяцев восемь-десять. Вот разбирает он какой-то этюд или отрывок, и говорит: «Вот понимаешь, вот он здесь, вот как тебе сказать… Вот у меня Галилей сейчас, вот он то-то, то-то, то-то». Потом разбирает другой отрывок и опять: «Вот у меня в Галилее тоже…». Он все время сравнивал, пока репетировал, все время только об этом и говорил. Он мог в курилке об этом заговорить. Было такое ощущение, что артисту первый раз в жизни дали роль, он никогда до этого не играл и теперь только об этом и говорит. Кончился Галилей, начался «Иванов», все про него. Настоящая педагогика, когда человек не учит, а у него учатся, вот Попов этим и занимался. Я вдруг понял, как надо относиться к профессии. Вот человек, который во сне спит и видит. На первом занятии Попов два часа говорил, 95 % у нас никто ничего не понял. Так говорил, что я думал: «Боже мой, неужели так будут проходить занятия». Он просто сел и говорил, два часа говорил о театре, о проблемах, о том, что такое живопись; вот он «написал» Кодекс, проходили годы, я «читал» и начинал понимать, о чем он говорил. Но тогда меня задела одна фраза, Андрей Алексеевич сказал: «Искусству нельзя отдавать часы, ему надо отдавать всю жизнь до последней секунды». То есть 24 часа в сутки. И вот за те четыре года, пока мы учились, я понял, что такое настоящее отношение к искусству. Вот это Попов старался в нас вложить. Он никогда никого не учил, никогда не настаивал, он работал с тобой на равных, как будто встретились два народных артиста в одном эпизоде и культурненько разговаривают. Я-то прихожу к нему с отрывком и говорю: «Вот я то, то, то….» - «Да? Ты так думаешь? Может быть». И я думаю: «Стоп, может быть, я ошибаюсь в чем-то». Он никогда не скажет: «Нет, ты не прав, здесь надо так». То есть его педагогика был такая, что мы у него учились. Он иногда выходил с нами играл отрывок или какой-нибудь этюд, что-то сам пробовал. То есть я понял, что ему самому нужно играть на курсе, он никогда ни на чем не останавливался, всегда учился. В 1966 году он набрал режиссерский курс, потому что стал главным режиссером, и ему самому надо было учиться. Он их набрал, он учился у них, они учились у него, потому что всегда есть чему учиться у другого, а тем более у этих других людей есть какие-то свежие мысли. Теорию Энштейна можно открыть только в 25 лет, уже в 40 лет ее не открыть. Также и здесь. И Попов учился. Потом он перешел во МХАТ и резко поменял свою жизнь, он ушел в другую сферу, другой театр, для него это было очень сильное потрясение. Это все равно, что человеку взять и эмигрировать. Он понял, что ему надо переучиваться в хорошем смысле. Каждый человек должен все время переучиваться, иначе он как корабль обрастает ракушками. Через год он набирает нас, это потом я уже понял, что ему нужно было заново начать постигать профессию, что-то заново для себя открывать. Поэтому он у нас учился, а мы учились у него, и не было никакой педагогики, никакого назидания. Потом он взял этот театр, взял своих учеников и сказал: «Вот вы работайте, а я буду вас прикрывать». Но у него не хватило сил нас прикрыть.
Андрей Алексеевич что-нибудь вам рассказывал о своем отце Алексее Дмитриевиче Попове?
Не так много, но рассказывал. Для него Алексей Дмитриевич был незыблемый авторитет, то есть, если папа сказал, значит, так оно и есть. Конечно, он всегда им гордился. Андрей Алексеевич как-то рассказывал историю, о том, как он стал заниматься всерьез театром: в детстве не мечтал стать артистом, вот, папа был режиссером, а потом как-то стал постепенно увлекаться, и однажды по случаю какой-то самодеятельности в театре он достал коробку грима и дома начал гримироваться. Гримировался он два часа, и вдруг вошел отец и увидел, начал на него орать: «Как ты смеешь, ты знаешь что такое грим? Это искусство. Ты….» Но потом отец все же понял, что Андрей Алексеевич не может без театра, и сказал: «Учись». А Андрей Алексеевич, когда на него наорал отец, понял на всю жизнь, что до этого у него к театру было отношение такое развлекательное, и только с той минуты он вдруг понял, насколько это дело серьезно, что это служение. Вообще, когда шел разбор какого-то отрывка, Попов приводил какой-то пример: «Вот папа репетировал и….». Всегда, когда он это произносил, было ощущение, что папа для него Иисус. Редко встретишь людей, которые с таким почитанием относятся к своим родителям.
Что Вас увлекло в это профессии, почему решили поступать в ГИТИС?
Ну, это мне повезло, что я попал в ГИТИС, потому что я был согласен где угодно учиться этой профессии. Но, наверное, любовь у меня была приходящая. В детстве, когда мы жили на Камчатке, поскольку для женщин не было там никакой работы, и маме моей предложили общественную работу в клубе с маленькими детьми – готовить концерты к Новому году, к 7 ноября - она увлеклась этим и меня втянула. Мы там пели, танцевали и даже отрывочки маленькие играли. Моя самая первая роль – это дед. Это про то, как снесла курочка золотое яичко. Значит, выходил шестилетний дед, у меня были валенки до пояса и, когда я выходил, уже весь зал катался от смеха. Входила бабка, тоже девочка маленькая, и я ей говорю, что вот нам надо, чтобы курочка снесла нам яичко. Выносили надутый шарик, который клали на табуретку и говорили: «Вот снесла курочка яичко». Потом говорят: «Мышка пробегала, - пробегала девочка, - хвостиком махнула, яичко упало и разбилось». И в это время еще одна мамаша, которая помогала моей маме, иголкой уколола шарик, он лопнул, а я стал плакать так, что меня унесли со сцены. Я рыдал, потому что не думал, что шарик взорвется. Вот такие вот разные отрывочки были, в которых я довольно успешно играл. И я привык к сцене, я ее не боялся. На этом все закончилось. Но потом, когда у нас в Симферополе построили Дом пионеров, это были 60-е годы, космос, первые полеты, тогда космос был смыслом всей жизни, я увлекался астрономией, а потом мне захотелось ракеты строить. Узнал, что в Доме пионеров есть кружок ракетомоделирования, что там запускают ракеты, которые на километр летают, и решил туда записаться. В Доме пионеров было около пятидесяти кружков, и, когда я искал нужный мне кружок, увидел кружок кинолюбителей и подумал: «О, здесь кино снимают». Но пошел дальше, нашел кружок ракетомоделирования, записался, полгода занимался, пока однажды мы не запускали ракеты, и у одного парня ракета взлетела, повернулась, полетела на меня и врезалась так, что на всю жизнь у меня на лице остался небольшой шрам. Я весь в крови, упал, ракета полетела дальше, врезалась в здание и разлетелась в щепки. Весь в крови я прихожу домой, и родители мне говорят: «Все, больше ты туда ходить не будешь». Ну, действительно, ракета меня чуть не убила, если бы в висок попала на скорости 600-700 км/час, то не жить мне. И я тогда подумал, что надо идти чем-то другим заниматься, а я человек увлекающийся, то фехтованием занимался, то на дзюдо ходил. Тут вдруг вспомнил про кружок кинолюбителей, и что-то так мне захотелось, как девочкам в детстве, которые хотят быть киноактрисами, а что это такое не знают. Я пришел в этот кружок и спрашиваю: «У вас здесь на киноартиста принимают» - «Нет, - говорят, – у нас тут на киномеханика принимают» - «Ну, как же так, а я думал, что здесь кружок киноартиста» - «Нет, - отвечают, - есть вот театральный кружок, а кино нет». Я подумал, ладно, пойду в театральный. Пришел в театральный кружок, меня попросили прочесть что-нибудь, я прочитал монолог из «Тараса Бульбы», потому что задали в школе и я его выучил. Руководитель кружка похвалила меня: «Молодец, хорошо читаешь», - и взяла меня. Занимаясь в кружке, я постепенно стал ведущим молодым артистом, а кружок был большой, человек 60. Мы постоянно занимали первое место по области, были лауреатами по Украине, выступали в Киеве. А еще руководитель этого кружка придумала такую общественную должность - директор, ну, как капитан команды, и назначила директором меня. Потом этот общественный опыт мне пригодился, когда мы на курсе создали свой худсовет по предложению Попова, куда входили староста, комсорг, профорг и еще несколько человек. Курс избрал худсовет, а меня избрали председателем худсовета, то есть тоже своего рода директором. Когда я стал заниматься в этом кружке, играть, то у меня стало очень хорошо получаться, и мне моя педагог говорила, что я, мол, молодец, давала главные роли, и я вдруг почувствовал, что настолько привязался к театру, что не мыслю жизни без него. Я начал думать, идти ли мне в артисты. Когда я поузнавал какие бешеные конкурсы, и сказал об этом дома, мне говорят: «Ты чего, с ума сошел? Ты поедешь поступать в Москву, где сотни людей на место, поступай в любой другой институт». Услышав мой отказ, родители мне сказали: «В общем так, ты лето проваливаешь, а в ноябре ты уходишь в армию, откуда вернешься, все забыв за два года». Я стал готовиться к поступлению, но сам, поскольку один артист из местного драматического театра, откуда кстати вышел Александр Голобородько и где в молодости начинал Михаил Царев, мне сказал: «Ни с кем никогда не занимайся, тебя сломают. Самое главное, чтобы при поступлении ты прочитал от себя; то, что у тебя болит, то, что ты чувствуешь, ты должен выразить. А если ты будешь заниматься с педагогами, они тебе будут навязывать свое, и ты будешь чужое читать. Пусть ты прочтешь неправильно и плохо, но увидят, как из тебя льется твоя душа – вот это самое главное». В течение года я занимался каждый день, подбирал репертуар, читал. Когда я приехал в Москву, то мне было все равно в каком из четырех институтов учиться – ГИТИСе, Щукинском, Щепкинском или ВГИКе. Во ВГИКе в тот год был какой-то закрытый набор, и я пришел ГИТИС, меня тут же прослушал педагог. Тогда прослушали десять человек за полтора часа, мы все вышли, через десять минут вышел студент, который помогал приемной комиссии и говорит: «Значит, все, кто читал сейчас, никто не прошел, - так, подумал, я, вот все и началось, как мне родители говорили, - никто не прошел, кроме… Леонтьев… есть такой? Зайдите к нам». У меня прямо камень с души упал. «Ну, что, - говорит мне педагог, - Вы очень хорошо читали, я отправляю Вас сразу на третий тур». Я обрадовался, сразу давали общежитие. Тут еще был момент такой, что дня за два до отлета в Москву я потерял паспорт и мне взамен в ДЕЗе дали справку, по ней и по свидетельству меня в самолет пустили, в ГИТИС и Щукинское училище брали. Позже паспорт нашелся и недели через две родители мне его переслали. А пока его не было. Я пришел в Школу-студию МХАТ, но документы у меня не приняли. Я так обиделся на эту Школу-студию МХАТ – все берут, а эти не берут – и сказал, что больше к ним никогда не приду. Потом я пришел в Щепкинское училище, там ребята, которые собрались около аудитории, стали друг друга расспрашивать, кто где провалился, а я говорил, что в ГИТИСе уже на третьем туре, на меня стали смотреть как на народного артиста. В Щуке – на втором. В Щепке я читал совсем другой репертуар, чтобы проверить себя. Я начал читать Маяковского, а когда закончил, то меня спросили: «Все, да? Спасибо. Вы свободны». Я вышел и не понял, а как же второй тур. Никакого второго тура, ничего не было. В Щуку на второй тур я не пошел, потому что в ГИТИСе в это время прослушивали ритмику. О том, что я поступаю к Попову, я понятия не имел. Потом, когда я уже начал учиться и когда окончил ГИТИС, только понял, насколько судьбы преподнесла подарок.
Как сложилась судьба Ваших сокурсников после ухода из театра им. Станиславского Андрея Попова, за исключением Алексея Горячева, работающего в Театре Армии?
Почти все в Москве остались. В Театр Армии перешли Валентина Воилкова, она сейчас живет во Франции, и Горячев. Я попал в Театр на Таганке, туда же ушли еще две мои сокурсницы. В «Современник попали Петрова и Хазова. В театре им. Станиславского остались четверо - Багов, Бобылева, Лушина, Веялис. Дудина попала в Новый театр, но потом ушла оттуда. Еще один сокурсник, мой друг, Слава Кононенко, попал в Ленинградский ТЮЗ к З.Карагодскому, но, к сожалению, через год он умер. В театр им. Пушкина ушли Максимов и Колесников, Калтаков – в театр им. Маяковского. То есть все распределились по Москве и один человек – в Ленинград.
Часть вторая
При
подготовке интервью была использована
фотография музея ЦАТРА.
copyright ©
2005-2014 Александра Авдеева
|
