
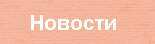 
 
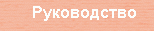


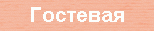
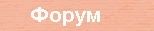
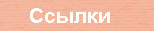 
|
|
Центральный
Академический Театр
Российской Армии
Неофициальный
сайт
|
Скрипочка
Интервью к 70-летию Юрия Комиссарова

Юрий Данилович, расскажите, пожалуйста, немного о своих родителях, что за семья у Вас была?
У семьи очень непростая судьба. Начнем с того, что отцу 99 лет сейчас, если он доживет до мая, то будет 100! Маме 95 лет! Если учесть, что они в свое время побывали на Лубянке, что отца допрашивал и бил ключами от сейфа лично Абакумов, то это, конечно, удивительно, что они дожили до таких лет. У отца совершенно ясная голова, он до сих пор работает в Институте Востоковедения, до сих пор пишет работы, сам туда он же не ходит, ноги уже отказывают, смотрит через лупу, телевизор только слушает, но пишет, выигрывает конкурсы, переводит. Они оба заканчивали Ленинградский университет, папа – факультет восточных языков, а мама – филфак по древнерусской литературе. Потом папа долгое время работал в Ленинграде, после чего его в приказном порядке вызвали в Москву, в Главное разведывательное управление (ГРУ) и отправили под «крышей» пресс-аташе в посольство в Тегеран (он блистательно знал фарси), перед самой войной, где-то в апреле-мае 1941 года. Его вызвали, а мы с мамой оставались в Ленинграде, он приехал в Москву, его не было месяца два, потом он приехал за нами, и нас отправили в Тегеран. Мы приехали в мае туда, а в июне началась война. Там мы пробыли до конца войны. В 1949 году отца опять отправляют в Тегеран, он уже в МИДе работал. А я остаюсь в Москве, в интернате, поскольку надо было учиться в школе. Комната в коммунальной квартире была закрыта. Родители пробыли в Тегеране недолго, год всего, и после этого, меня однажды вызвали из интерната на встречу с тетей, которая сказала, что и отец, и мать арестованы. То есть отца вызвали сюда и арестовали прямо в кабинете у Вышинского, Вышинский тогда был министром иностранных дел. Отец приехал, доложил ему все, что происходило в Иране, а тогда уже было американское влияние в 50-е годы в Иране, нас выдавливали оттуда, вообщем доложил, вышел, и тут же прямо у дверей его взяли под руки, далеко ехать не надо было, МИД был там, где сейчас памятник Воровскому, а Лубянка прямо через площадь. Мать арестовали в поезде, когда она с моим младшим братом возвращалась в Москву. И очень повезло, что мать дала тетке телеграмму, чтобы та встречала на вокзале. Потом следователи спрашивали мать, откуда родные узнали о приезде. А получилось так, что они же контролировали мать с момента пересечения границы, но еще до того, как они вошли в купе и арестовали ее, с ней ехала женщина тоже из посольства, которая пошла давать телеграмму, и мать попросила эту женщину дать и за нее телеграмму, и та пошла и дала обе телеграммы. Поэтому, когда мать приехала уже арестованная в Москву, тетка вошла в поезд, схватила брата, ему было три годика или четыре, тут же отвезла на другой вокзал, взяла билет и отправила в Ленинград к другой тетке, иначе бы он загремел в детский дом. Меня из интерната сразу «попросили», я кое-как закончил там седьмой класс, и уже жил и учился в этой коммуналке, тетка приезжала ко мне из Балашихи, светлая ей память. Она ездила каждую неделю в приемную МГБ, узнавала новости, потом ко мне, оставляла по червонцу в день на еду. Я ходил в школу, жил один, соседи меня всячески третировали, потому что это был «мидовский» дом, нужна была вторая комната, они действительно ютились, их было много там, в маленькой комнатушке. Вообщем я тогда немножко жизнь почувствовал после сладкой жизни в посольстве во время войны – «Юрочка, скушай виноградинку, Юрочка, скушай шоколадочку, ах, Юрочка ничего не ест» - а потом как-то Юрочка понял что по чем.
Мать выпустили перед самой смертью Сталина, видимо, уже начинались какие-то перемены и ничего, кроме как приписать ей, что она слушала анекдоты, не могли. Ей засчитали два года Лубянки и выпустили. Дома жить нельзя, в Москве жить нельзя, ограничения всякие по проживанию тогда еще были. Это был конец 1952 года, уже Сталину оставалось месяца четыре. Вот сейчас мы смотрим хронику документальную, уже там начинались брожения, уже было не так все просто, уже такого террора, таких посадок не было. Уже у него (Сталина) были мысли по поводу того, чтобы вообще всех евреев выселить, как выселили чеченцев, например, но он просто не успел. Ну, вот, мать вышла, жить нельзя, она скитается. Отцу дали пять лет. Говорили, что он и японский шпион, и английский шпион, и что, когда он был пресс-атташе в первый приезд в Тегеран, то у него был роман с француженкой, чего только матери не говорили: «Вот Вы его защищаете, скажите, что он шпион, потому что он Вам там изменял!», - вообщем, там все были методы, какие нужно. Ночные допросы, которые оплачивались втройне. Следователь вызывает, охрана спать не может, а он спит, а потом получает тройные деньги за допрос ночной. А Абакумов выбил у отца ключами два зуба, бросил на пол со стула, бил ногами. Вот сейчас говорят, что он тоже несчастный пострадавший, но отец рассказывал, как Абакумов «пострадал», как он расправлялся, что он делал с людьми. Когда отец в журнале увидел статью, жалеющую Абакумова, что вот он тоже был репрессирован, посажен, расстрелян, то он хотел даже позвонить в журнал.
А начинал отец мальчишкой с басмачами. Он родился в Кирках, это в Средней Азии, поэтому он язык хорошо знает. Там вот был отряд, который воевал с басмачами, потом отец был директором МТС, потом вот его направили учиться в Ленинград, ну и потом вот Тегеран и арест.
Любопытный момент. Матери после освобождения не давали прописки. Она отчаялась, я здесь, младший в Ленинграде. Что делать? И она от отчаяния сама пошла в приемную КГБ. Сдаваться. Потому что, если бы ее нашли в Москве, то ей сразу бы дали пять лет за нарушение паспортного режима. Пришла и, как сейчас помню, был такой полковник Полубояров, фамилию на всю жизнь запомнил, и он говорит ей: «Вы что делаете, Вы соображаете, куда Вы пришли? Вы понимаете, что я сейчас должен нажать кнопку и отправить Вас туда?». Она говорит: «Я не могу, мне уже все равно, я уже в совершенном отчаянии». Он сказал ей прийти через день, вот нашелся же в то время человек, или уже менялись времена. И она через день к нему приходит, он, видимо, запросил ее дело, понял, в чем там суть и говорит: «Идите домой, я позвоню в милицию, все сделаю». Она пошла домой, никто ее больше не трогал, мы переехали, нас сразу выселили на Мещанку.
А отец когда вышел?
Сталин умирает, и объявляют амнистию всем, у кого срок до пяти лет. И он выходит по амнистии, еще даже не реабилитирован. Потом, году в 1955-м, он нигде не работает, мама была нянечкой в больнице, и их вдруг еще до ХХ съезда вызывают повесткой в военную прокуратуру. Они оттуда возвращаются с партийными билетами, им вернули партбилеты, отцу предложили вернуться в МИД. Он сказал: «Нет. Только не туда. Я займусь наукой, к чему я призван, чем я и занимался». Ему предлагают работу в Институте востоковедения, куда он и ушел. Мать работает учительницей в школе до пенсии. Нам дают две хорошие комнаты на Фрунзенской набережной.
Младший брат уже вернулся?
А он вернулся почти сразу, как матери разрешили жить в Москве. Вот. Дальше жизнь пошла уже нормально. Родители были реабилитированы полностью года, наверное, за два до ХХ съезда, им выплатили полностью зарплату за то время, что они сидели, дали квартиру, предложили работу, принесли извинения. Вот такая была интересная история.
Из Вашего рассказа естественным образом следует вопрос: что и когда Ваши родители успели в вас вложить, что дети стали артистами?
Не знаю, я сам часто об этом думал. С одной стороны, отец считал, что нам обоим надо быть в науке, учить языки, настаивал на английском, а мать более такая лиричная натура, она до сих пор пишет стихи, стихи эти издаются. У нее есть очень хорошие лагерные стихи. Даже пьесу молодежь где-то поставила, кассету ей прислали. Я думаю, что это от нее. Но такого прямого примера, воздействия не было. У меня, честно говоря, всегда была мечта. Актер – это была вторая мечта. А первая – я хотел быть врачом. И, если бы не эта моя дурацкая учеба, когда я жил один, учился, конечно, плохо, по гуманитарным предметам еще было ничего, а вот по химии все время, дай Бог, двойки не ставили. Куда ж я пойду в медицинский, я б химию просто не сдал. Я мечтал стать хирургом, и до сих пор у меня ощущение, что я мог бы принести большую пользу на этом поприще. Через всю жизнь пронес уважение к этой профессии и такое сожаление, что я не в ней. Эти две профессии – врач и актер – похожи. Сейчас уже романтическая пелена спала, когда уже вплотную с театром сталкиваешься. Но все-таки, театр – это врачевание души. Я вот недавно смотрел передачу по «Культуре» на тему «Умер театр или нет», и там актриса театра им. Вахтангова Юлия Рутберг так хорошо говорила по поводу того, что театр умер, что уродуют классику, уродуют Чехова, уродуют Шекспира, Петя Трофимов вместо того, чтобы застрелиться, вскрывает бутылку шампанского…
Анна Каренина – наркоманка…
Анна Каренина - наркоманка, да Бог знает что, каких только вывертов нет. Мне же мечталось, что человек приходит в театр каждый со своими проблемами, а они у каждого разные, как у Толстого, «все мы несчастливы по-разному, а счастливы одинаково», так вот, все мы несчастливы по-разному, и каждый находит какую-то перекличку в том, что происходит на сцене, от хорошей драматургии, от хорошей постановки, от хорошего актера – за этим приходит человек в театр. И вот мне казалось, что врач-хирург, что артист, если у него хорошая роль, если он занят в хорошем спектакле, то он может принести какое-то добро той раненой душе, которая пришла в театр, а души все по-своему ранены. У каждого есть какая-то царапинка, ранка, но есть обязательно, на то он и человек. Вот поэтому и потянуло так в театр. Поступал в институт очень долго. Пошел во ВГИК в 1953 году. Там была очень жесткая комиссия, называлась «мандатная». Кто мама, кто папа и т.д. Там я «пролетел». Не знаю почему, то ли потому, что комиссия «мандатная», то ли потому, что нефотогеничен, но я туда не попал. Потом я пошел сдавать экзамены в Школу-студию МХАТ. Там я «слетел» со второго тура. Затем я пошел в Щуку. Там покойный Захава меня вызывает после первого же тура и говорит: «Знаете что, молодой человек, Вы давайте заканчивайте с этим делом, потому что будет полное фиаско, Вы никогда в жизни не будете артистом, займитесь чем-нибудь другим». В ГИТИС и Щепку я не поступал. И тут объявление в газете. Что получилось? В 1954 году в Театре Армии расформировали команду. А в команде были Сева Ларионов, Володя Сошальский, Саша Кутепов, Боря Петелин. Кто-то, кто уже успел отслужить, как Володя Сошальский, остается в театре, Саша Кутепов где-то дослуживает и потом возвращается в театр, Сева Ларионов уходит в Ленком. Да, а год, когда я не поступил, я проработал осветителем в Ленкоме, намереваясь на следующий год опять идти поступать. Театр Армии вместо расформированной команды набирал вспомогательный состав. В то время было несколько иное отношение к труппе, к ее составу. Вот нас набрали двадцать человек вместо команды. Надо было в массовке играть, «Гибель эскадры», матросы. Собрали всех этих матросов, надели на нас портки, дали ружья. Я помню как раз свой первый выход в «Гибели эскадры» в форме матроса с ружьем в сцене похорон комиссара. Вот это было крещение, а потом пошли какие-то массовки. Но… Был же Алексей Дмитриевич Попов. Значит, взяли вот двадцать человек, а он не смотрел, когда брали, смотрел зав. труппой. Набрали разных людей, мне было восемнадцать, а были и тридцатилетние, безработные актеры. Попов сказал: «Через три месяца вы обязаны показать самостоятельную работу. Можете выбрать какую-то инсценировку, рассказ или сцену из спектакля. Выберите, кто с Вами хочет поработать из ведущих актеров. Вам будут предоставлены для репетиций Малая сцена, костюмы, помощник режиссера. Потом соберется весь художественный совет, и вы покажете, что вы умеете, что вы можете». После первого показа от двадцати человек осталось восемь. Через полгода опять показ. Мы с Колей Корноуховым что-то показывали вместе, кажется, «Злоумышленника» Чехова. Осталось уже пять человек. Потом у меня довольно удачно все складывается. Играл эпизодики, потом заболевает Лева Шабарин, и мне дают эпизод – сыграть суворовца. Люда Касаткина была еще девочкой, ей тогда лет тридцать было, она играла школьницу в фартучке. Михаил Михайлович Майоров играл ее отца, полковника. Вся премудрость заключалась в том, чтобы я из одного угла Малой сцены бежал в другой с конфетами, чтобы подарить их этой девочке и натыкался на этого полковника, я должен был упасть, конфеты падают, я встаю: «Разрешите идти, товарищ полковник. – Идите», - я брал конфеты и уходил. Все это было еще без образования, потому что в ГИТИС на вечерний я поступил значительно позже. Сначала я поступал на актерский факультет, его закрывают через год, я не знаю, куда мне деваться, а все-таки диплом нужен. Мне наш начальник театра Андрей Андреевич Царицын посоветовал перейти на театроведческий, чтобы был диплом. Что я там получил, так это чудную культуру театра. Там были очень хорошие педагоги. Диплом у меня лежит, я в него и не заглядываю, как я был артистом, так я им и остался. Первой серьезной ролью был «Сережка с Малой Бронной» на которую меня пригласила Нина Антоновна Ольшевская, потом уже было «Признание в любви», затем «Объяснение в ненависти» на Большой Сцене.
1959 год – Вы были заняты в двух спектаклях военной тематики: «Сережка с Малой Бронной» и «Барабанщица». О войне и особенно о послевоенном периоде Вы знали не по книжкам. Как это отразилось на вашей игре, на понимании ролей?
К большому сожалению, большой роли о войне, как у нас Гена Крынкин в «Рядовых» играл, мне не досталось, я очень об этом жалею. Юноша в тельняшке в «Барабанщице» – это маленькая роль. «Сережка с Малой Бронной», там вот было отношение к войне.
Там по сюжету ребята уходят на фронт со школьной скамьи и не возвращаются?
Не вернулся только Сережка, а его трое друзей приходят с войны, женятся. Там мою любовь играла Касаткина. Мы должны пожениться, война, мы уходим на фронт, мой герой пропадает без вести, и здесь идет такая раскрутка, что, мол, а не сдался ли он в плен. Кто-то вставал на защиту Сережки, один вел себя не очень прилично. Вот такая история. Я должен сказать, что, казалось бы, войну я не знал, поскольку был в Тегеране, ну, когда приехали, я видел послевоенную Москву, лимитные магазины, очередь за мукой писали на руке, но эта тема, военная тема для меня свята на всю жизнь, всегда слеза рядом и комок в горле! А в «Барабанщице» еще очень хорошо играла первая исполнительница роли Люся Фетисова, и мне казалось, что я очень органично вписываюсь в этот спектакль, и тема этого спектакля в тему театра. Потом я еще играл «Объяснение в ненависти» – это тоже военная тема. Тоже с Людой Касаткиной. Мой герой – солдат, отслуживший в войсках в Германии и возвращавшийся в Россию, а она была подавальщицей в буфете в этой части. У нее была очень сложная судьба, она сама во время войны заболела туберкулезом, трагическая история была с родными, персонаж такой израненный, изломленный. Я в нее влюбляюсь, она в меня, она едет лечиться в Россию Был такой триптих, три сцены, которые прерывались выключением света, и вроде как день проходил. Она рассказывает про войну, про себя, я это воспринимаю как трагедию, в конце она умирает, любви не получается. В это все было очень легко поверить, в эту историю, и что все это развивалось на фоне войны. Поэтому вписывался я в эти вещи легко. В нашем театре лучшим спектаклем о войне были «Рядовые». Очень хорошо играл там Гена Крынкин, а сам я жалел, что не был занят в нем.
Часть вторая
При
подготовке интервью была использована
фотография музея ЦАТРА.
copyright ©
2005-2013 Александра Авдеева
|
