
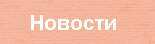 
 
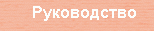


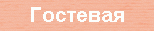
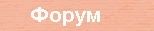
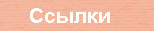 
|
|
Центральный
Академический Театр
Российской Армии
Неофициальный
сайт
|
"Может еще повоюем!" (Часть вторая)
Интервью к 35-летию работы Виталия Стремовского в ЦАТРА
Чем дорога для Вас роль Сиднея в спектакле «Боже, храни короля» периода Леонида Хейфеца?
И эта роль, и роль Шприха в «Маскараде» дороги тем, чем вообще мне дороги любые роли в любых спектаклях – содержательностью, то есть там было о чем говорить. Хейфец, он, конечно, очень тонко чувствующий Время режиссер, и спектакль «Боже, храни короля» был настолько про нас и тогдашнее время, что просто диву давались, как это Сомерсет Моэм, написавший эту пьесу после первой мировой войны, оказался так созвучен нашему перестроечному времени. Поэтому роль слепого Сиднея, который ослеп во время войны, выброшен из жизни, будучи молодым человеком, лишенный всякого будущего и четко, трезво ощущающий, что происходит со временем, с семьей, со всеми процессами в обществе – вот весь этот «бульон» содержания был мне безумно дорог, там было о чем говорить не словами, а «за словами». Там был замечательный монолог, в котором Сидней высказал все свое отношение к власти, к времени, к процессам, которые происходят в обществе, к жизни. Мне было ради чего выходить на сцену. И это благодаря Хейфецу. Он умеет любой материал делать животрепещущим.
Вы были в числе тех артистов Театра Армии, которые играли в спектакле немецкого режиссера Штайна «Орестея». В чем разница работы с иностранным режиссером?
Это было совершенно иное качество режиссуры. Штайн, конечно, гениальный режиссер, гениальный художник, гениальный философ. Там была работа совершенно другого свойства. Он гениально показывал, что ему нужно, причем настолько гениально, что после этого не надо было ничего объяснять. Он показывал, а ты уже понимал, что тебе, собственно говоря, играть. Он ничего не разъяснял, не ставил сверхзадачи актеру, он говорил, что ему нужно в результате, он показывал нам результат, но в этом результате было такое богатство содержания, что было понятно, что нужно играть. Штайн сумел нас заразить, это же гигантская работа, три пьесы в один вечер, причем такие сложные, тяжелые, поэтому было постоянное восхищение перед его мастерством режиссера. Как он сумел музыкально это выстроить? Ведь все же исполнители участвовали в хоре, как этот текст хора он раздраконил, разбил на партии, каждому дал то словечко, то полслова, то фразу, и все это сплеталось, причем без музыки, без инструментовки, одними голосами. Ткань, сплетенная из голосов – это было, конечно, фантастически, ощущать себя участником хора, как единого организма. Он ничего не добивался от актера, точнее он добивался тем, что предлагал некий идеальный образец, а актеру приходилось дотягиваться до этого идеала, который создавал режиссер. Уж какими средствами ты этого добьешься, насколько ты сам профессионален, так и получится, сможешь, значит, будешь соответствовать, не сможешь – будешь кое-как имитировать то, что он хочет. В этом была разница с отечественной режиссурой.
Чисто зрительский вопрос. Был в Театре Армии такой спектакль – «Адам и Ева» по одноименной пьесе М.А.Булгакова. Я прочитала это пьесу, и, признаюсь, ничего в ней не поняла. Вы понимали, про что играли?
Понятно, что пьеса-то про любовь, про превратности любви, про то, что вроде как один человек достоин, а любят другого, почему и за что, непонятно. Причем все это происходило на фоне разрушения, там же произошла какая-то катастрофа. Не случайно пьеса называется «Адам и Ева», первые люди на земле. Иона Унгуряну, который ставил этот спектакль, наверное, грело то, что тогда тоже было сложное время, ощущение катастрофы в стране, и за что держаться - только вот за ценности любви, ценности человеческих взаимоотношений. Мне кажется, что в этом была сверхзадача спектакля, и про это, наверное, писал Булгаков, про то, что на фоне вселенских катаклизмов, у человека остается только одно – его близкий человек.
Вам, как артисту, было легче или сложнее существовать в необычных сценических условиях, предложенных режиссером спектакля «Дон Жуан» Виктором Шамировым, заключавшихся в шаговой доступности артиста от зрителей, которые сидели во время спектакля на сцене?
Мне, как актеру, было совсем не сложно. Дело в том, что к такому условному театру я был, в общем-то, готов. Так случилось, что в молодости в институте и в первые годы после него работал с замечательным режиссером Алексеем Александровичем Левинским, который исповедует такой условный театр, театр масок, театр гротеска, не психологический театр. Практика с таким режиссером и таким материалом у меня была, поэтому мне-то было довольно легко понимать Шамирова, чего он хочет, почему он предлагает именно такой способ существования на сцене. С другой стороны было, конечно, ужасно интересно общаться со зрителем глаз в глаз, чтобы зритель был в какой-то степени твоим партнером. Вот это мне очень нравилось, да и многим нравилось. Хотя поначалу, когда Шамиров пришел, я к нему отнесся несколько настороженно – молоденький мальчик приходит в театр ставить свой дипломный спектакль, но он быстро сумел нас убедить, что кое-что понимает в искусстве, и дальнейшие его шаги это доказывают, сейчас он один из лидеров новой режиссуры.
Вы сыграли в «Макбете», сейчас играете во «Много шума из ничего». Подписались бы под фразой «Шекспир – наше все», имея в виду весь мир, если да, то почему?
Да. Дело в том, мне приходилось не только играть, но и ставить Шекспира – «Двенадцатую ночь» в одном студенческом театре. Мне представляется, что Шекспир всеобъемлющ. У него каждая фраза, каждый отдельно взятый кусочек – это "отдельный" смысл. Например, во «Много шума из ничего» есть фраза у моего героя: «Какая странная штука человек, когда он надевает камзол и штаны, а рассудок оставляет дома». Вот для меня эта фраза – маячок всего спектакля, я играю спектакль, а где-то там, в подсознании, у меня эти слова. Ведь это же все о превратностях человеческих характеров, о том, что может натворить человек, насколько в нем смешаны и ад, и рай. И вот эти смыслы, не только сюжет, а помимо сюжета, смыслы человеческого бытия, смыслы человеческого существования, о том, что такое само создание «Человек», из чего он состоит, из каких элементов. В любой пьесе, когда начинаешь вглядываться, снимать слой за слоем, и заглядывать за текст – а собственно, о чем Шекспир думал в тот или иной момент – вот эти его, казалось бы, нестыковки сюжетные, то ты начинаешь понимать, что тут нет нестыковок, тут просто разные смыслы, которые сталкиваются, сплетаются, отталкиваются друг от друга, переходят один в другой, или существуют один рядом с другим, так, как это происходит в жизни. Мы же не рациональны в жизни, мы не живем последовательно шаг за шагом, нас кидает в жизни от одного к другому, от трагедии к комедии. Также и у Шекспира. Поэтому, он не то, чтобы «наше все», он – вся жизнь. Шекспир – это вся жизнь человека как индивидуальности и человеков как сообщества. Так мне кажется.
Что способствовало Вашему решению получить режиссерское образование, почему выбрали для этого именно ВТУ им. Щукина, и у кого Вы учились там?
Первым толчком был посыл Александра Михайловича Вилькина, который ставил у нас спектакль «Усвятские шлемоносцы», я был там занят, и он, видимо, что-то разглядел во мне, потому как однажды подозвал меня и сказал: «Знаешь что, тебе, по-моему, стоит идти в режиссуру». Сначала я это воспринял как некое оскорбление, потому что, что же, я не артист что ли? Но потом, подумав, я решил, почему бы нет. Всю жизнь, и до сих пор, я люблю учиться, учусь по мере возможности где угодно, у кого угодно и как угодно, и считаю, что это самое главное для артиста, не останавливаться, надо все время учиться. Как только ты почувствуешь, что все уже знаешь и все умеешь, то тут-то «крышка». Сыграв к тому времени довольно много, будучи плотно занят в репертуаре и проработав в театре к тому времени, а это был 1980-й год, десять лет, артистом я себя еще не ощущал. Я чувствовал какую-то недостаточность внутреннюю, я был крайне собой недоволен очень во многом, не смотря на то, что меня иногда хвалили, кто-то говорил добрые слова, но внутри себя, по гамбургскому счету, я себя не чувствовал артистом. В общем, был такой кризис, я подумывал о том, что, может быть, мне действительно стоит с актерством завязывать, а попробовать себя в режиссуре. Пошел я в Щуку, потому что там было заочное отделение, а еще это был первый год, когда там набирали режиссерский курс для профессиональных театров, до этого набирались режиссерские курсы только для народных театров. Это был курс Евгения Симонова, там преподавало много разных педагогов, но, конечно, больше всего я получил полезного в профессии от Александра Михайловича Паламишева, замечательного педагога и режиссера. Когда я встретился с ним, то я не только получил инструмент как режиссер, но вдруг почувствовал, что получил инструмент как актер, я что-то стал понимать в профессии. И так как-то странно получилось, что я ведь в свое время не поступил в Щукинское училище, меня не взяли туда на актерский факультет, а вот, когда я спустя 15 лет пришел туда учится режиссуре (хотя мы там друг у друга участвовали в отрывках как актеры, и потом у нас был еще спектакль по актерскому мастерству), то моему тщеславию польстило то, что педагоги, которые у нас преподавали, сказали мне, что я абсолютно «щукинский» актер. Мне это было приятно слышать. Короче говоря, проучившись на режиссерском факультете, я почувствовал почву под ногами как актер. И это не замедлило сказаться. Я стал более востребован в театре, все свои серьезные роли я сыграл, когда учился и закончил Щуку, я стал понимать, что и как я делаю. Не просто по наитию, а у меня действительно появился в руках инструмент, метод, которым я овладел, и мне этого запаса хватило лет на 7-8. Потом, правда, надо было снова идти учиться.
Как Вы себя ощущали в работе с коллегами-артистами в качестве режиссера над своим дипломным спектаклем «Схватка» и позднее над спектаклем «Старый холостяк, или Распутники», что называется, по ту сторону баррикад? Какой он – режиссер Стремовский на таких площадках как Театр Российской Армии или Казанский Академический драматический театр?
Должен признаться, что мой дипломный спектакль, который я ставил в Театре Армии – это была моя глубокая ошибка. Это была пьеса, навязанная мне. Мне было поставлено главным режиссером Юрием Ереминым условие: «Или ты ставишь эту конкретную пьесу или ставь диплом где угодно». Ну, где я мог в то время поставить, я должен был, значит, куда-то из Москвы уехать, а дело в том, что у меня был маленький ребенок, семья, старики-родители, и уехать от них я никак не мог. Я согласился поставить эту пьесу, тем самым, подписав себе "смертный приговор". Почему? Потому что пьесы не было. Была графоманская поделка одного генерала КГБ, героя СССР, весьма достойного человека, но абсолютно бездарного как драматурга. Взялся я за нее при условии, что сам ее полностью перепишу. Мне был дан карт-бланш, главное, чтобы был спектакль. Я переписал пьесу, оказалось, что натворил с точки зрения КГБ массу ошибок, меня даже вызывали туда, орали на меня, сказали, что сотрут в лагерную пыль, что мне никогда не стать режиссером, если я не сделаю поправок. Я смотрел на них в совершенном недоумении, поскольку на дворе был 1985 год, времена уже немножко менялись. Я ничего не поменял, ничего со мной не сделали, но спектакль был крайне неудачный. Это был детектив, детектив мне удался, но то, что там все равно сохранялся какой-то запах КГБ, наложило свой отпечаток, и мне кажется, что это повредило моей репутации. Не надо было начинать с этого, но у меня не было другого выхода. С другой стороны, я, наверное, могу что-то поставить себе в заслугу, потому что работал я с суперзамечательными актерами. В моем спектакле премьеру сыграл не кто-нибудь, а Олег Меньшиков, у меня играли Андрей Ташков, Игорь Ледогоров, Александр Михайлушкин, Ирина Демина, то есть великолепные актеры мне как режиссеру подчинялись, доверяли, уж что они про меня там думали – это мы оставим за скобками, думаю, что ничего хорошего про режиссера, который предлагает им играть в таком спектакле, они думать не могли. Но я глубочайшим образом на всю оставшуюся жизнь благодарен им за то, что они были настолько тактичны и добры, что терпели меня, выполняли все мои пожелания. Помню про этот диплом, что в нем была замечательная декорация, которую делал Александр Давидович Боровский, служивший тогда в команде. Он долго мучился над тем, какую сценографию выстроить. И кончилось тем, что он принес мне макет и сказал: «Виталий, вот я сделал макет, хочешь, принимай макет, хочешь, делай что-то другое, я больше ничего сделать не могу. Можете отправлять меня в армию, но все, что мог, я сделал». Я посмотрел на этот макет и пришел в ужас, потому что этот макет ставил меня как режиссера в крайне сложное положение, хотя макет был замечательный, сценографическое решение было великолепное, там было все, что мне нужно: детективная атмосфера, графическая четкость, он был очень красивый. Но этот макет оставлял мне для мизансценирования узкую полоску вдоль рампы Малой сцены глубиной полтора метра, и вот на этих полутора метрах глубины я должен был выстраивать все мизансцены. Все остальное была серая стена с дверными арками, проемами, за которыми можно было прятаться. Но я справился.
Что касается «Старого холостяка, или Распутников», то, во-первых, большое спасибо Борису Афанасьевичу Морозову за то, что он мне тогда доверил это. Пьесу я любил, она мне очень нравилась, я давно хотел ее поставить. Тут мне было сложнее, потому что режиссерская профессия требует очень много сил, которых мне не хватило, тем более, что через какое-то время мне пришлось войти в спектакль в качестве исполнителя главной роли, я уже не мог смотреть его со стороны, не мог корректировать его со стороны, мне было безумно сложно, требовалось безумное напряжение и психическое, и нервное, и физическое. Актеры мне не очень доверяли, слишком сложные задачи были. Опять же, я хотел поставить спектакль в стилистике условного театра, это была комедия масок. В этой пьесе нет четкого сюжета, это такое обозрение нравов, и, в общем, создать какое-то единое целое мне не удалось. Хотя отдельные сцены получились, но самое главное, что там было несколько интересных актерских работ. А ещё приятно, когда кто-то из коллег вспоминает об этой работе с удовольствием. Но, когда по тем или иным причинам спектакль сняли с репертуара, я испытал двойственные ощущения: мне было, конечно, жалко тех усилий, которые были вложены в спектакль, но одновременно я почувствовал какое-то облегчение, потому что играть и режиссировать спектакль, мне было очень тяжело. А уж каким я режиссером был, надо спросить у актеров.
Чтобы покончить с темой моей режиссуры, я должен сказать, что поставил мало спектаклей, потому как совмещать актерство и режиссуру сложно. Сейчас я уже, наверное, не возьмусь за режиссерскую работу, слишком тяжело стало. Но Вы упомянули Казанский театр, я ставил там пьесу Александра Галина «Жанна», которая в Театре Армии идет под названием «Аккомпаниатор». У меня сложились очень добрые и хорошие отношения с замечательными актерами, которые там играли. Я вспоминаю эту работу с большим удовлетворением. Еще я поставил спектакль «Сказ про Федота-стрельца, молодого удальца» по Л.Филатову в Московском театре кукол им. С.В.Образцова. Это была новация для театра, поскольку спектакль был не с куклами, а с живыми артистами. Для театра это был риск, но спектакль удался, Леонид Сергеевич Филатов меня даже похвалил в одном своём интервью, а он был человек строгий. Но по разным, не зависящим от меня и театра причинам, спектакль был довольно быстро снят с репертуара, поскольку с исполнителем главной роли, на которого, собственно, и ставился спектакль, произошло несчастье, он вынужден был покинуть театр, и спектакль просто не мог дальше существовать.
Артисту Стремовскому сейчас комфортно существовать?
Мне, как артисту, хотелось бы больше работать. Той работы, что есть сейчас, для меня мало. Конечно, мне сейчас гораздо сложнее, чем лет двадцать назад. Мне было сложно вначале, когда я ничего не понимал в профессии, и сейчас, потому что этой работы конкретно для меня мало. И потом, мне кажется, что театр, не только наш, но Театр, в принципе, сдвигается в какую-то облегченную сторону, борьбы смыслов все меньше и меньше, наблюдать за этим процессом тяжело. Но мне кажется, что это временно, что наступит опять время смыслов, очень бы хотелось еще на это посмотреть.
Есть ли кикие-то роли, желание сыграть которые у Вас очень велико?
Нет, у меня никогда не было желания сыграть Гамлета, Короля Лира или что-нибудь подобное. У меня другой подход. Я не знаю, то ли это в силу мой собственной индивидуальности, то ли в силу недостаточности актерской, но, когда я получаю роль, то мне интереснее справится с ней, с тем материалом, который мне дают, насытить его.
Каким одним словом Вы определили бы свое творческое прошлое, а каким - ощущение от своего будущего?
(Пауза). Прошлое я бы определил так: «Эх, мало сделал». А будущее: «Может, еще повоюем».
Часть первая
При
подготовке интервью была использована
фотография автора.
copyright ©
2005-2007 Александра Авдеева
|
